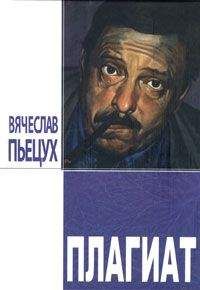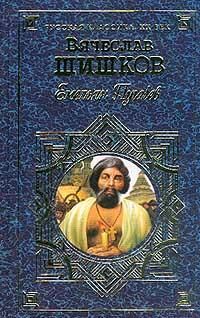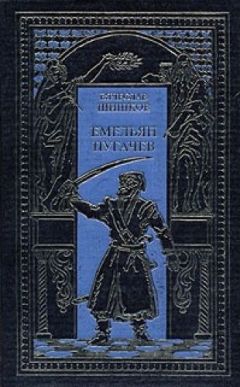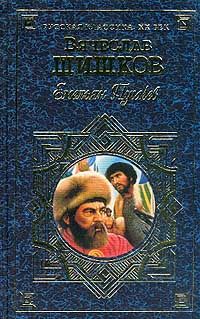Вячеслав Шишков - Хреновинка [Шутейные рассказы и повести]
— Ни в каком разе… Я имею от товарищей мандат…
Тут все солдатки опять прыснули, схватились друг за дружку и пуще заржали, а чернявая сказала нараспев:
— Вот ты веселый… а зачем же ты стрелял патрету в нос?
Я вторично замял подобное обращение и начал наводить звонком полный порядок… Когда навел, то вынес резолюцию:
— Таким образом, говорю, вы очень наглядно убедились, что без царя в десять разов лучше во всех смыслах. И вот вам очевидные причины, — при этом возгласе я вытащил бумажник, хлопнул им об ладонь и достал две сотенных. — Вот, говорю, при царе у меня не только денег, а и кошелька-то не было, сам голодранцем ходил, рожа черная, чуть не зачах… А теперича полная свобода, живу как господин, обещаю еще лучше жить…
У бабешек глазенки разгорелись, слюнки потекли.
— Давай в карты играть! — кричат. — Угости конфетками!..
— В карты, говорю, не играю, а угощенье выставить нам все одно, что раз плюнуть… Отрекаетесь ли от царя?..
— Да уже отречемся!.. Только послаще угости…
— Эй, солдат! — крикнул я товарищу солдату. — Орудуй! Живой рукой… А завтра мы всерьез разовьем всю программу, — и выдал ему субсидию средств.
ВЕСЕЛЫЙ БРОДЯГА
Фомка — дюжий, косоватый мужик. Когда он попадал на работу, где молодые бабы, он бороду подстригал в виде лопатки или брился, оставляя лишь рыжие усы. В таежном же безлюдном месте отпускал красно-рыжую бородищу и был тогда похож на сбившегося с панталыку кержацкого попа. И голос его менялся. Бритый, с девками говорил сладким масляным тенорком, глазом косил мало, стараясь поочередно умеючи прищуриться; с бабами — борода лопаткой — разговаривал покрепче, глазом косил больше, молол напрямки, без обиняков — бабы хохотали… А в тайге, весь бородатый, словно лесовик, говорил толсто, по-медвежьи, и глаза его смотрели друг на друга.
Фомка не дурак выпить, во хмелю любил поколобродить и, когда живал по городам, всегда попадал в часть. Впрочем, худого он не делал, ценил вольную жизнь, шатался из села в село, из города в город, истоптал кривыми ногами всю Сибирь. В артели его побаивались, но любили за веселый нрав, за прибаутки.
* * *Сидели вокруг костра, поглядывали на Фомку ожидательно: да когда же он, черт, заговорит? А черт все еще ухмылялся, и подмигивал, и разжигал.
Поворошил костер жердиной, посмотрел за реку, где чернела мрачная тайга, покрутил обеими руками усы…
— Ну, уж ладно: расскажу, как я министеров опровергал. Раз я нажрался пьяный, иду по городу да ору во всю мочь, вроде как скубент: «Не надо мне министеров!» А почему такое? А очень просто. Сейчас. Только дайте, братцы, курнуть.
Курносый парень из артели согнул козью ножку, смачно облизал ее и уважительно поднес бродяге.
— Рассчитался я осенью на корчеподъемке и получил всего шесть рублев, чик-в-чик. Пришел с этим капиталом в Томской, стал работу искать. Искал-искал — нету. Ах, ерш те в бок! Оно, конечно, без работы лестно — лежи на боку, поплевывай, вроде как игумен, ну, это в Томском трудно, потому соблазны: придешь в обжорный ряд, тут тебе печенка, тут селезенка, там рубцы, здесь огурцы, а то глядишь — пельмени тетя продает, четвертак сотня. Сама на корчаге с горячим угольем сидит, зад греет, а под подолом вот этакая оказия с водкой приготовлена. Хлопнешь на размер души, грибком закусишь да сотню пельменей-то и оплетешь, вот и барин…
Артель смеялась.
Фомка мрачно на всех посматривал.
— Ну, так вот… — продолжал он. — Живу это я, значит, в Иркутском…
— Стой, в каком Иркутском? В Томском! — закричали все.
— Тоись как в Томском, ежели в Иркутском? В Томском особь статья, а то в Иркутском. Вот уж верно, я там объелся на пасхе у купца. А все из-за стряпки. Красивая бабочка была, малина, а с хитринкой. Вот она и зачала меня потчевать. Сначала студень подала. А я в кучерах жил, за пост-то отощал, у купца строго. Ну, поели. После того — щи. Приналег я и на щи, грешным делом. А она кашу пшенную тащит с маслом. Поел я каши, стал из-за стола вылазить А она мне: «Постой, пироги подам». Ах ты, батюшки, а мне уж и есть не во что. «Чего ж ты, — кричу, — не упредила?» Ну, съел я две доли пирога — уж очень сдобен был, с осетриной. Поел да за кресты. «Стой, куда ты? А нешто курицы не хочешь?» Я на нее: «Ах ты, песова баба, опять не упредила?!» — «А почем я, говорит, знаю. Ты бы всего, говорит, помаленьку трескал». Я опять за стол, как же это так: курицы не поесть. Ну, вижу — свет из глаз. А все чавкаю, все-таки редко такой обед. Опояску снял, гашник распустил, терплю. Да уж кое-как из-за стола выполз. Только крест занес, а она: «Стой, куда ты?| Разве киселя не хочешь?» — «Какой кисель-то, будь ты проклята совсем?!» — «Из облепихи, сладкий с молочком». — «Дыть не вынесу! Лешая ты этакая, полудурок. А ежели округовею да посуду бить начну?» — «Не хошь — не жри». Подумал я, подумал. «Давай, ведьмина дочь!» Как покрыл я все это киселем, гляжу — уж вздохнуть не могу. Батюшки мои светы, как быть? Господи, не приведи без покаяния. Пал я прямо на карачки и пополз обнаковенно вон. А она, яга, хохочет.
— Ну, как же ты, — не утерпел курносый, — отдышался все-таки?
— Отдышался, брат. Ох, отдышался. А главное, жернов помог.
— Как так жернов?
— О-о, жернов в этих делах первое средствие. В сенцах у нас жернов большущий стоял. У хозяина-то мельница была, крупчатку драли. Вот я навалился, значит, брюхом-то на жернов, да и ну взад-вперед возить. В пот меня вдарило. Ничего, вожу. До петухов, почитай, вожгался. Дак — верите ли, — хозяин гостей привел для усмотренья. Хохочут, выпимши. Знамо, народ богатый, им што, им ничего, привычны. Они сызмальства въелись. Ни один не обожравшись, только пьяные. Один даже красненькую подарил. И что ж, ребята, ведь размолол я на жернове нутро-то. Ну, ударило меня тогды в сон. И снились мне все кобели. Подойдет быдто к моему рылу, ногу подымет, да и прочь.
Все дружно захохотали. Артель пильщиков была большая, веселая, человек пятнадцать, наполовину молодежь. Лежали на боку возле костра, покуривали; курносый придвинулся вплотную к Фомке и, прерывая хохотом чуть не каждое слово, глядел ему в рот. Сутулый старик кипятил в котле кирпичный чай. Надвигалась ночь, небо вызвездило, из-за тайги всплывал рогатый месяц. От горы нарезанных дров несло пахучим хвойным духом.
Курносый спросил:
— Ну, а как же, Фома Петрович, министеры-то?.
— Какие министеры? — уставился на него удивленно Фома.
— Как какие? Как ты их снивергал-то?
— A-а… ну-ну… на чем я остановился-то?
— На бабе, Фома Петрович, — услужливым тенорком, еле сдерживая смех, подсказал курносый. — Как она, со временем, на горячих угольях сидит.
— Ах, да, — почесал за ухом Фомка. — Вот, значит, она сидит и сидит. День сидит, другой сидит, встанет, постоит да опять сядет. А ведь я, робяты, забыл, про что сказывал-то, — Фомка сгреб в горсть рыжую свою бородищу и уставился косым глазом на старика. — Дайка, дедка, винца чуток.
— На, выпей, — подал старик чашку.
Фомка хлопнул, тряхнул головой, понюхал корку хлеба.
— Ну, дык вот, вспомнил. Получил я, значит, расчет на корчеподъемке и прибыл, значит, в Челябу.
— Как, в Челябу? — смеясь, закричал курносый. — В Томско, ведь!
— Хоть в Челябу, хоть в Томско, мне все едино. Приехал да все деньги-то и профинтил. Поплелся кой-как не знамо куда. И понеси меня нелегкая на гору, по откосу лезть. А гора высоченная, а на самом гребешке — беседка для прогулок. Вскарабкался на самый верх да тут и растянулся у обрыва. Гляжу, рогастый черт ко мне по откосу ползет, цап мою шапку да бежать. Я за ним. Он под гору — я за ним. Да с откоса-то разов пятнадцать, братцы мои, перекувылился, в башке сразу страшное головокружение сделалось, не знай, где и сижу-то.
Курносый парень гыгыкал, скаля белые зубы; артель глядела в огонь.
— Ну, очухался это я, вылез из крапивы и пошел прямо вдоль. Ах, думаю, ведь без шапки-то холодно. Подхожу к казенному дому, залез на выступ, окошко раскрыто, да и лег, обнаковенно, брюхом на подоконник. Гляжу, швейцар стоит. Я ему и говорю: «Дай шапку, пожалуйста». — «Нету». — «А звона, — говорю, — три шапки с кокардой висят, дай». Тут из-за лестницы какой-то посмелей выходит, подошел: «Проходи-ка со Христом, а то в комнаты упадешь». Да как кулачищем по лбу стрелит, я моментально упал с окна на улицу. Схватил кирпич да кирпичом в окно. А ко мне городовой— шасть. «Ты чего орешь?» — «Я ничего, я смирный, у меня черт шапку скрал». — «Шапку? В часть!» И забрали меня, значит, под шары. Да там по морде, всего расхвостали. Плакал я тогда. А почему же? Шапки жаль, новая.
— Все, что ли? — спросил старик и подал еще водки. — На-ка вот. Да соври потолще что-нибудь.
Фомка выпил, посмотрел на сутулую спину старика, разливавшего чай, и обиженно сказал:
— Пошто соври! Это быль.